Любовь в жизни Л.Н.Толстого
Две правды, два сильных характера
и одна большая трагедия.
( Полнер Т.)
Осенью 1903 года П.И.Бирюков, близкий Толстому человек, задумывает писать биографию Льва Николаевича и обращается к нему — письменно — с рядом вопросов. Был среди них и вопрос о любви. Будущему биографу хочется знать, кого, когда и как любил автор «Крейцеровой сонаты». Вот ответ Толстого: «О моих любвях: Первая самая сильная была детская к Сонечке Колошиной. Потом, пожалуй, Зинаида Молостова. Любовь эта была в моем воображении. Она едва ли знала что-нибудь про это. Потом казачка в станице — описано в «Казаках». Потом светское увлечение Щербатовой-Уваровой. Тоже едва ли она знала что-нибудь. Я был всегда очень робок. Потом главное, наиболее серьезное — это была Арсеньева Валерия… Я был почти женихом («Семейное счастье»), и есть целая пачка моих писем к ней».
Полон ли этот набросанный рукой правдивого старца любовный кондуит? Неполон. Нет в нем, например, Аксиньи Базыкиной, яснополянской крестьянки, о которой 30-летний Толстой, одурманенный страстью и запахом вянущей черемухи, пишет в дневнике: «Она хороша, Я влюблен, как никогда в жизни. Три десятилетия минуло, как расстался с Аксиньей, и вдруг она ожила под его пером в «конспиративной» повести «Дьявол» — веселая, ладная, в красном платке, с блестящими глазами.
Но есть в «любовном кондуите» еще один пробел, куда более существенный. Не упоминается еще об одной женщине — той самой, о которой Толстой писал своей двоюродной тетушке Александре Андреевне: «Я, старый беззубый дурак, влюбился». И — ей же, спустя три недели: «Я… и не знал, что можно так любить и быть так счастливым». А в промежутке написано еще одно письмо — быть может, самое пылкое любовное письмо Льва Толстого: «… мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю: нынче все скажу, и ухожу с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю: зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собою это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или недостанет духу сказать вам все… Мне страшно будет услышать: нет, но я его предвижу и найду в себе силы снести». Это он в письме хорохорится — что найдет, дескать, силы, в дневнике же подумывает, не пустить ли себе пулю в лоб. «Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится… Она прелестна во всех отношениях». Грызет себя, что не объяснился: идти назад и сказать все и при всех.
Не сказал — опять не сказал! но хорошо хоть не застрелился, а написал вместо этого то свое сумбурное и страстное послание. Отдал, однако, не сразу — еще два дня таскал малодушно в кармане. «Мне страшно будет услышать: «нет». «Я схватила письмо, — вспоминает та, которая, сама того не ведая, едва не лишила мировую литературу одного из столпов ее — а ну и впрямь наложил бы на себя руки! — и стремительно бросилась бежать вниз, в девичью комнату».
Что чувствовал он в эту минуту? А вот что: «…быстрые-быстрые легкие шаги зазвучали по паркету, и его счастье, его жизнь, он сам — лучшее его самого себя, то, что он искал и желал так долго, быстро-быстро приблизилось к нему. Она не шла, но какою-то невидимою силой неслась к нему».
Так описывает эту сцену сам Толстой. «Он видел только ее ясные, правдивые глаза, испуганные той же радостью любви, которая наполняла и его сердце. Глаза эти светились ближе и ближе, ослепляя его своим светом любви. Она остановилась подле самого его, касаясь его. Руки ее поднялись и опустились ему на плечи».
Но почему — не «я», почему — «он», «ему»? А потому что это уже не дневник, это — роман «Анна Каренина» и действует здесь не Лев Толстой, а Константин Левин.
Автор щедро поделился с героем именем своим, преобразовав его в фамилию, и любовью к Истине, и, разумеется, биографией. Это ведь никакой не Левин объясняется с возлюбленной посредством букв — начальных букв каждого слова, которые он писал мелом, делает сам Толстой. «Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу; но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова». И возлюбленная поняла. «Я следила за его большой, красной рукой и чувствовала, что все мои душевные силы и способности, все внимание были энергично сосредоточены и на этом мелке, на руке, державшей его». Это ведь ни какой не Левин дает ей, для очистки совести, свой дневник, где с подробностями описана его холостяцкая жизнь, это опять-таки делает сам Толстой. «Он знал, что между им и ею не может и не должно быть тайн, и потому он решил, что так должно». То есть решил: возлюбленной должно знать все, в том числе и про Аксинью Базыкину, героиню будущей «конспиративной» повести. Это, наконец, не Константин Левин, это Лев Толстой умудрился остаться в день венчания без рубашки: все вещи упаковали, поскольку молодые «в нынешний же вечер уезжали», а лавки не работали по случаю воскресенья. «Жениха ждали в церкви, а он, как запертый в клетке зверь, ходил по комнате, выглядывая в коридор и с ужасом рисуя себе, что может подумать невеста.»
Невеста думала вот что: «В голове моей мелькнула мысль, что он бежал». «Мысль, что он бежал» — это не цитата из романа, это строки из воспоминаний, собственноручно написанных графиней Софьей Андреевной Толстой много лет спустя. Нелепая, дикая, бредовая на первый взгляд «мысль, что он бежал», оказалась мыслью пророческой.
Можно ли предположить, читая роман, что так страшно закончится счастливый, почти идиллический брак, нарисованный художником в противовес незаконной любви Анны и Вронского? Можно ли предположить, что Кити, подобно Анне, вздумает сводить счеты с жизнью, вот разве что не под поезд бросится, а в пруд? Можно… Читая роман — читая внимательно! — такое предположить можно.»
С чего же началось отчуждение — с чего и когда? Что же это за разочарование, которое «на каждом шагу» находил Левин, а заодно и создатель его, жаловавшийся в дневнике на молодую жену: «Ее характер портится с каждым днем, я узнаю в ней и Поленьку и Машеньку с ворчаньем и озлобленными колокольчиками».
«Ужасно страшно бессмысленно, — вопиет он на первом же году супружеской жизни, за полтора месяца до рождения первенца, — ужасно страшно, бессмысленно связывать свое счастье с материальными условиями — жена, дети, здоровье, богатство».
Но пока еще он не думает бежать от всего этого, час не настал, истина не осознана до конца, гений только подбирается к ней.
Случившееся поздней осенью 1910 года никого из близких так уж не поразило. На смертном одре он думал — как и всегда — об Истине. Во всяком случае, последние его слова — самые последние! — были об этом. «Я люблю истину… Очень… люблю истину».
Это правда: он больше всего на свете любил Истину. А она больше всего на свете любила его.
Киреев Р. Лев Толстой: «Мне страшно будет услышать: нет»: [очерк] / Руслан Киреев // Наука и религия. — 2003. — №9 — с. 24-27.

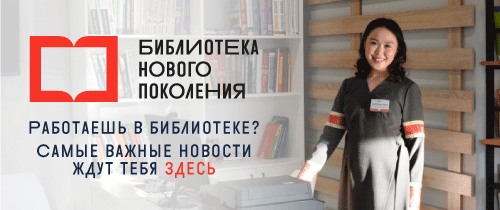



 Оцените условия оказания услуг
Оцените условия оказания услуг




